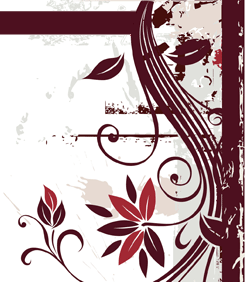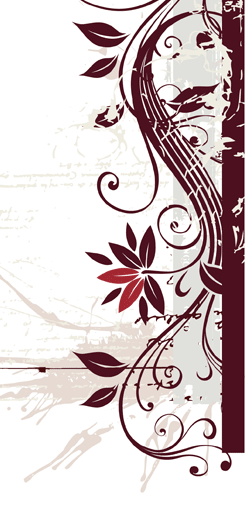КОТЛАС – ПЕРВЫЕ УПОМИНАНИЯ
В связи с распространением христианства на Двине и Вычегде встречается первое письменное упоминание о Котласе. В Вычегодско-Вымской летописи (конец ХV1 века) сказано: « Того же лета (1379 года) начал Стефан у пермян на Пыросе и на Виляде и крести их святей вере».
Пырас – это название селения или, вернее всего, местности в районе современного Котласа. На языке коми-зырян «пырья», «пырыс» означает «через», «сквозь» или «ход», «вхождение», что имеет неясный для нас смысл. Название «Пырас» держалось вплоть до конца ХVП века. В книге богатого нидерландского купца Койэтта, которая вышла в Амстердаме в 1677 году, описывается его путешествие по Сухоне и Северной Двине и упоминается Пырас.
Таким образом, 1379 год может считаться днем рождения Котласа. Само название «Кодлас» встретилось впервые в «Писцовой книге Устюжского уезда 1623-1626 гг». К этому же времени относится документ «Уговорная память», в соответствии с которым селение Кодлас отошло к вотчине Строгановых. В 1674 году Кодлас был занесен на карту Московии, которую начертил французский картограф Гийом Сансон. Здесь это селение обозначено как «Коtlаs». Отметим, что в соответствии с дошедшими до нас письменными источниками названия Пырос и Кодлас на протяжении полустолетия существовали одновременно. Вполне возможно, что речь идет о разных селениях, рядом расположенных.
Вполне возможно, что селение Кодлас получило свое название от речки. Название речки также имеет финно-угорское происхождение. Об этом свидетельствует элемент «лас», образовавшийся от «лакс» (сравните с карельским «лакши, лакси» и вепсским «laks», что означает «залив»). Произношение «Кодлас» сохранялось до самого конца Х1Х века, затем оно трансформировалось в «Котлас».
Однако, селение или местность, называемые во времена Стефана Пырасом, возникли, безусловно, несколькими столетиями раньше. Косвенное подтверждение тому можно найти в том, что Пырас не мог быть освоен пермянами позже VШ- 1Х веков по той причине, что в это время начинается более мощное и широкое встречное перемещение славян. Нельзя предположить, что коми передвигались вниз по Вычегде навстречу русским переселенцам. Существовал, как известно, обратный процесс: отступление более слабых и низших по развитию коми в глубинные районы северного края. А поскольку селение было основано коми, что доказывается его названием и тем, что в Х1V веке коми были основным его населением, возникнуть оно могло до VП-VШ веков. Раннее освоение района современного Котласа косвенно подтверждается и необычайно частыми поселениями в данной местности. Целый ряд путешественников и исследователей отмечали здесь исключительно высокую для северного края плотность населения. В начале ХV века в районе Котласа отмечены погосты Туровецкий, Вотлажемский, Вондокурский, Городок и др.
На котласской земле сошлись вместе две большие реки: Малая Северная Двина и Вычегда, пришедшие сюда с юга и востока. Здесь они дают жизнь более мощной водной магистрали – Большой Северной Двине. Здесь же в треугольнике рек заканчивают свой путь речки Кодлас и Нимянга (или Нимяньга). Речка Нимянга, или Нимяньга, свое название получила также, вероятно, от коми. В их языке суффиксы «га», «ва» и «ма» означают «вода», «река». Впоследствии это название, возможно, по причине более удобного произношения трансформировалось в «Лименда».
Древнее название реки Вычегды на языке коми – Эжва, что значит «желтая река». Этому есть свое объяснение: вода в реке всегда мутная. Причиной тому являются неустойчивость русла и подвижность песков.
Основным населением Пыраса ко времени прихода сюда Стефана были зыряне. Их главным занятием были охота и рыболовство. Почти половину времени проводили зыряне на промыслах в тайге, уходя туда небольшими группами – от двух до двенадцати человек. Промышляли, главным образом, белок, соболей, зайцев, горностаев, оленей, лосей и лисиц, а из птиц – рябчиков и куропаток. Зыряне были замечательными охотниками. Они могли целыми сутками неустанно преследовать зверя. На своих широких и коротких лыжах, изготовленных из еловых досок и подбитых снизу шкурой, снятой с ног оленя, охотники удалялись от дома на десятки и сотни верст. Иногда на промысел уходили и в одиночку, имея с собой лишь друга-собаку. Зырянин-охотник честен и порядочен. В глухих таежных углах он не возьмет добычу, попавшую в чужую ловушку. Будучи голодным, не съест припасы, спрятанные другими охотниками. Пища зырянина груба и мало обработана. На рыбной ловле в желудок отправлялась только что пойманная рыба. Судя по тому, что русские презрительно называли зырян «векшеедами», они ели белок. Вполне возможно, что употребляемая ими пища была несоленой, так как считается, что только с приходом на Север русских добыча соли получила свое начало и распространение. Исследователи жизни зырян отмечают их высокий уровень умственной организации, но чрезвычайно приземистую стадию их развития и культуры. Ремесла и изобразительное творчество также не получили у них заметного развития. Религией зырян было многобожие. Природу, по их представлениям, населяли добрые и злые духи. Поклонялись они идолам, вырубленным из дерева. Их устанавливали возле домов и на перекрестках лесных троп. Идолам приносились пожертвования в виде ценных вещей, мехов. Приношения становились достоянием идолов. Пользоваться ими никто не имел права.
Стефан Храп, с именем которого связывается первое упоминание о Пырасе, родился (ок. 1340 года) в Устюге в семье священнослужителя. Его дед Дзюбас был зырянином и торговал пушниной и рыбой, снаряжая обозы для Устюга, куда позднее и переехал жить. Там родилась у него дочь Мария – будущая мать Стефана [60]. С ранних лет он воспитывался в духе любви к богу. По достижении совершенного возраста, в 1366 году, он отправился в Ростовский Григорьев монастырь (с 1207 по 1682 годы Устюг был в составе Ростовской епархии). Там был возведен в сан иеромонаха.
В стенах святой обители он стал готовить себя к просветительской деятельности. Изобрел зырянскую азбуку, перевел на их язык несколько книг Священного писания и многие молитвы. Ему помогало знание зырянского языка («…грамоте горазд греческой и русской и пермьскому языку»). В 1379 году он прибыл в Москву. Получив там наставление и благословение московского митрополита и заручившись для личной безопасности охранной грамотой князя Дмитрия Донского, Стефан возвратился в Устюг. В том же году приступил он к первым проповедям в Пырасе. « И нача, яко овча по среде волков, посреде рода строптива и развращенна ходити и проповедати Христа, истиннаго Бога, и учити Христовой вере» [48].
Задуманное дело было нелегким и далеко не безопасным. И до него ревностные апостолы пытались в разных местах приобщить зырян-язычников к Христу, но каждый раз терпели неудачу. До Стефана доходили, вероятно, слухи, что с одного из них, с живого, сняли кожу разгневанные нечестивцы. Зыряне имели весомые основания относиться к Москве с глубокой неприязнью: «От Москвы может-ли что добро быти нам? Не оттуда ли тяжести нам быша? и дани тяжкия? и насильства, и тивуны (церковные экономы), и доводчики, и приставницы?».
Проповеди Стефана в Пырасе имели несомненный успех. Отчасти это объяснялось магическими свойствами охранных грамот, которые имелись у Стефана («пермяне не смеях убить Стефана, яко с Москвы к ним пришедшаго и грамоты имущаго»). А отчасти тем, что все проповеди и религиозные обряды велись на родном для зырян языке. Самым важным, вероятно, что способствовало удаче, было обрусение зырян. Задолго до появления Стефана людские волны новгородской и московской колонизации перехлестывали через Пырас. В течение нескольких веков обитатели котласской земли имели возможность приобщаться к русской культуре и их укладу жизни путем смешения крови, усвоения обычаев, языка и нравов. В соседнем Устюге уже в ХП веке христианство было господствующим.
Поставив в Пырасе первую деревянную часовню для верующих, борец за православие направился вглубь зырянских краев вверх по Вычегде, где продолжал «слово божие проповеда» [34]. Отношение к нему местного населения было менее примиримым, а иногда и откровенно враждебным. «Но и пакости ему творяху многия: овин бо ругахуся ему, овин же словесы укоризненными досаждаху, а иннии с дрекольми нападаху на него, во еже убити его, друзи же сожещи того хотяху, хврастие же и солому собираху на огонь» [48]. Но одержимость и последовательность Стефана помогли ему преодолеть все препятствия. В устье реки Вымь поставил он еще одну церковь.
Это был образованнейший человек, «всяко писание ветхаго и новаго завета пройде», современник Сергия Радонежского. Уникальная письменность для коми, созданная им на основе русского и греческого алфавитов, просуществовала три столетия. Ею были написаны книги исторического и религиозного содержания. Московские купцы использовали древнепермский алфавит в качестве тайнописи [45].
Так распространялось православие. Оно хранило и обогащало культуру, целостность народа и его нравственные начала.
Москва по достоинству оценила труды незаурядного и смелого миссионера, немало содействовавшего утверждению на периферии центральной власти. В 1383 году ему был пожалован титул епископа Великой Перми. В Усть-Выми он основал епископскую кафедру. Умер Стефан Пермский в 1396 году, похоронен в Москве, в кремлевском храме Спаса на Бору. «Владимирский летописец» в 1396 году по этому поводу перечисляет заслуги апостола: «Сей же первый пермыский епископ, тои же крести пермич и идолы их съкруши и грамоту перьмьскую низложи и люди изучи и попы постави, церкви и веру утверди».
Распространив свое влияние на северо-восточные земли, Москва обратила свои войска к Зауралью и Нижнекамью, где основалось могущественное и воинственное Казанское ханство. Дорогой туда с давних пор служила двинско-вычегодская водная система, имевшая исключительно важное военно-стратегическое значение. Этой дорогой плыли к «Камню» и ратные отряды из Устюга, с Двины и Вычегды. Население этих мест постоянно привлекалось великими князьями к участию в завоевательных походах. В 1465 году отличился в Сибири отряд устюжанина Василия Скрябы, который завоевал несколько местных племен и обложил их крупной данью. В 1499-1500 годах были снаряжены военные экспедиции за «Камень» под водительством князей Курбского, Ушатого и Гаврилова. Только в отряде Семена Курбского насчитывалось 1300 устюжан и 500 вымичей и вычегжан. Во всех походах под рукой Москвы участвовали устюжане и «главы своя складываху без пререкования». В Устюге шутили: «Без устюжан в Сибири никакому делу не бывать». До середины ХV1 века этот город продолжал служить аванпостом московских князей при завоевании Сибири.
СОЛЬ-ВЫЧЕГОДСКАЯ И КОРЯЖМА – ПОЯВЛЕНИЕ НА КАРТЕ СЕВЕРА
К ХV1 веку относится возвышение Соли-Вычегодской. В 1492 году на берегу речки Усолки, вытекающей из соленого озера Солонихи и впадающей в Вычегду, возникло поселение Усолье. В 1515 году поставил здесь малоизвестный тогда промышленник Аникий Строганов первую соляную варницу. Он был выходцем из разбогатевших приморских крестьян. Незаурядный ум, предприимчивость и целеустремленность помогли Строганову существенно расширить производство, завести новые промыслы, раздвинуть границы своих владений. Быстро богатела и превращалась в конкурента Устюга вотчина Строганова Усолье. Усольский уезд вплотную подходил к Устюгу. В 1590 году царским указом официально утверждается название Соль-Вычегодская, а город признается самостоятельным административным центром.
Биография этого поселения началась с местечка, которое называлось Чернигов. Оно было основано новгородцами в ХШ веке. Чернигов стоял в четырех километрах выше современного Сольвычегодска. Вычегда смыла то место, где располагался город. И черниговцы спустились вниз по реке к устью речки Усолки [64].
На стыке ХV и ХV1 веков в Сольвычегодске насчитывались 441 двор и 1187 человек, в уезде – 9900 черносошных крестьян, 900 светских феодалов и 1600 представителей духовенства [38].
Дело Аникия с успехом продолжили сыновья Яков, Григорий и Семен. Границы владений были раздвинуты ими далеко по Вычегде и Каме – вплоть до отрогов Урала. При этом Соль-Вычегодская оставался центром их торгово-промышленной деятельности. В ХVП веке, когда наблюдался наивысший подъем Соли-Вычегодской, там стояло уже 90 варниц, которые давали до 600 тысяч пудов соли в год. Дом Строгановых развивал железоделательные, кузнечные и пушные промыслы, производил оживленный обмен товарами с Нидерландами и Бухарой, вел прибыльную коммерцию внутри страны. Государственная казна не всегда могла обходиться без их помощи и нередко получала от них крупные займы.
Государство часто не могло обходиться без Строгановых и в обороне своих восточных границ. Защищая свои владения от регулярных набегов сибирского хана Кучума, Строгановы прикрывали также рубежи русского государства.
С 1573 года для отражения этих набегов Семен Строганов стал привлекать беглых людей, «вольных» казаков. Получил «ласковое» письмо вместе со щедрыми подарками и «заворуй Ермак Тимофеевич сын Поволский». Заворуями или ворами называли в ХV1-ХVП веках людей, нарушавших царские законы и покушавшихся на феодальную собственность. До этого дружина казацкого атамана наводила трепет на население приволжских районов. «Хоша били больно, гуляли довольно» по речным разливам казаки буйного атамана. «Рыбушку ловили по сухим берегам, по амбарам, по клетям, по богатым мужикам». Однако регулярные войска все серьезнее притесняли их. Это и ускорило решение Ермака принять участие в военном походе за Урал. Впрочем, это не первое его выступление в едином боевом строю с царскими стрельцами. В 1581 году он принимал участие в наступлении на Могилев во время Ливонской войны.
В 1582 году началось великое завоевание Сибири. В этом году Ермак «с товарищи» «дошед Орла городка, и ту многие запасы у Строгановых, ружье и вожей (вож – лоцман, кормчий) взял…» [44]. Небольшой, из 540 человек, но превосходно вооруженный отряд отплыл по реке Чусовой, держа курс на восток. Имеются сведения, что перед выступлением в Сибирь Ермак и его товарищи прошли обряд духовного самоочищения. Устыдившись своей прошлой воровской жизни, они приобщились к ценностям Православия. Уже 26 октября, через два месяца после отплытия, казаки овладели ставкой хана [58]. Слабое, раздробленное Сибирское ханство, находившееся на стадии первобытнообщинного строя, не могло сдержать дружный натиск русских землепроходцев. В письме к Кучуму от одного из его сподвижников сообщалось: «Пришли воины с такими луками, что огонь из них пышет и как толкнет, словно гром в небеси. Стрел не видно, а ранит и насмерть бьет. Никакими сбруями нельзя защититься, панцыри и кольчуги наши навылет пробивают».
Очень скоро возникла необходимость в пополнении. И Ермак отправил за ним группу казаков во главе с одним из своих сподвижников Иваном Кольцом. Весной 1583 года казаки вернулись к своему атаману с большим количеством боеприпасов, продовольствия и тремя сотнями служилых людей [17], набранных Строгановыми, по преданию, в районе Коряжемского монастыря. Даже такое небольшое число ратников было набрано с немалым трудом, так как на Двинской земле незадолго до похода был большой голод и мор. Наступление на Кучума было продолжено с новой силой. Закончился поход через три года. Отряд сильно поредел в боях. Лишь 90 человек вернулись обратно. Среди них не было Ермака. Он погиб уже в самом конце похода в ночном бою, защищая отход попавших в засаду товарищей.
Ермак – загадочная личность. Неизвестно, настоящее ли его имя, Ермак, или это прозвище. Неизвестно, где его родина. По одному из преданий он был родом из Красноборского района. Освоение необъятных просторов Сибири продолжалось уже без него и закончилось на далеких берегах Тихого океана.
Упомянутый Коряжемский монастырь был основан в 1535 году двумя иноками Логгином и Симоном. В поисках душевного уединения они нашли место в 35 километрах от Котласа и в 13 километрах от Соли-Вычегодской. Рядом находилась небольшая деревушка Копытово. Сначала были построены часовня и келья, а позднее – деревянная церковь во имя Св. Николая. Так появился мужской монастырь, который именовался Николаевским или, по речке, Коряжемским.
В записях ХV1 века упоминаются селения Ускорье и Комарица [3]. Деревня Ускорье или Усть-Курья расположена на левом берегу Большой Северной Двины напротив впадения в нее реки Вычегды. Название деревни произошло от двух слов: «устье» и «курья». Здесь имеется в виду устье Шипицынского полоя, или курьи. Деревня Комарица, так же как и Ускорье, располагалась на важнейшем в то время торговом Сухоно-Двинском пути из Москвы в единственный внешний порт страны – Архангельск. Здесь шла бойкая торговля, проводились шумные ярмарки.
Начало ХVП века знаменовалось для населения нашего края участием в литовских событиях. Польско-литовское государство (Речь Посполитая) и Швеция, воспользовавшись обострением социальных противоречий в России, попытались подчинить русское государство своему влиянию. Для этого польско-литовское магнатство и шляхта использовали ставленников-самозванцев Лжедмитрия 1 и Лжедмитрия П. В 1608-09 годах на «государево дело» для защиты Москвы отправлялись с Северной Двины, Вычегды и Выми один за другим отряды ратников. В 1612 году Строгановы снарядили вооруженный отряд из тысячи человек для Минина и Пожарского, пожертвовали много денег для освободительного движения. После освобождения Москвы в октябре 1612 года остатки разбитой вражеской армии были рассеяны по стране. Оказались они и на Севере. Их путь был отмечен грабежами, пожарами и насилиями. В январе 1613 года возле стен Устюга внезапно появился трехтысячный польско-литовский отряд. Устюжский воевода Нагой сумел организовать защиту города, и отряд был разбит. За три дня до этого врагами был жестоко разграблен и сожжен Сольвычегодск.
Страшную разруху и запустение пережил тогда северный край. Погибли в огне многие города и поселки, заброшены пашни, население согнано со своих мест, уничтожены многие культурные ценности. «Литовским разорением» называл народ этот тяжкий для него период. Но как говорится: все худое – худо кончается. Печальный конец постиг и этих незваных пришельцев. Повсеместно стали возникать большие и малые отряды мстителей, вооруженных чем попало. Организовывалась местная оборона сел и деревень. Пока еще слабое московское правительство не могло оказать эффективной помощи окраинам, и население само было вынуждено взять инициативу в свои руки. После заключения в 1617 году Столбовского мира со шведами и окончательным разгромом в следующем году поляков, пытавшихся овладеть Москвой, Север был, наконец, очищен от непрошенных гостей.